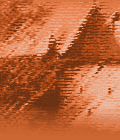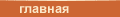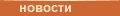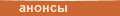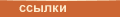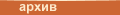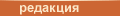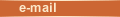E X L I B R I S "М И"
ОТВЕРГНУТЫЙ РЕФОРМАТОР
Литература, посвящённая жизни и деятельности последнего крупного реформатора имперской России П.А.Столыпина огромна: к кануну 140-летия со дня его рождения (2/15 апреля 1862 г.) она насчитывала более тысячи книг, статей, документальных публикаций1. Причём оценки личности Столыпина и итогов деятельности как современниками, так и исследователями и, особенно, публицистами кардинально расходятся: от признания его «русским Бисмарком», безудержного восхваления усилий по подавлению революции, превознесения столыпинских планов модернизации страны — до признания его «обер-вешателем», кровавым палачом собственного народа и даже первым «русским фашистом», предшественником Муссолини. В этом ряду выгодно отличается своей фундаментальностью, взвешенностью, стремлением к объективности недавно опубликованная в США монография профессора городского университета Нью-Йорка Абрахама Эшера, посвящённая проблеме поиска правительственного курса по стабилизации и модернизации России, только что вышедшей из революционного катаклизма. Автор справедливо отмечает усилившийся в годы перестройки интерес к реформаторскому наследию Столыпина, на которое обратил внимание и президент В.В.Путин, считающий, что Россия должна реформироваться, если хочет сохраниться как нация, как цивилизация. Причём главные задачи, решавшиеся Столыпиным — политическая стабильность и стабильность экономическая — остаются чрезвычайно актуальными и в наше время (с. 4).
А.Эшер не новичок в исследовании темы. Новая книга фактически является продолжением его двухтомного труда, посвящённого русской революции 1905 — 1907 гг. 2 Отсюда и обширная историографическая эрудиция, знание дискуссионных проблем, критическое осмысление работ предшественников — дореволюционных, советских и современных российских исследователей, зарубежных коллег, и фундаментальность работы, оснащённой огромным источниковым материалом, часть которого впервые вводится в научный оборот.
Структура работы, представляющей собой по жанру политическую биографию, достаточно традиционна, построена по проблемно-хронологическому принципу. Исследование начинается с анализа формирования личности и взглядов Столыпина, его происхождения, имущественного положения, образования, прослеживаются основные вехи его общественной и служебной карьеры — от ковенского уездного и губернского предводителя дворянства (1889 — 1898 гг.), гродненского, а затем саратовского губернатора (1898 — 1906 гг.), и до назначения его министром внутренних дел (26 апреля 1906 г.) и председателем Совета министров (8 июня 1906 г.). В последующих главах раскрывается пятилетняя деятельность Петра Аркадьевича на посту премьера: подавление революции, борьба за реформы, успехи и поражения на этом пути, анализ наследия столыпинского премьерства.
Головокружительная карьера породила множество слухов и домыслов. Действительно, он оказался самым молодым губернатором, министром и премьером. Благоприятствовали этому многие факторы. Сыграли свою роль и принадлежность к известному дворянскому роду, и владение обширными поместьями, и университетское образование, и накопленный им хозяйственный и административный опыт, и знание местных и государственных проблем, и связи в высших сферах, и, естественно, экстремальная ситуация, сложившаяся в стране накануне и в годы революции. Но решающим фактором была, конечно, воля императора. Николай II лично знал Столыпина. В книге приводятся интересные сведения о посещении монархом в июне 1904 г. Кузнецка и встрече его с «народом», организованной Столыпиным и произведшей на царя весьма благоприятное впечатление, о чём он и имел доверительную беседу с губернатором. К этому можно добавить, что Николаю очень понравился отчёт о состоянии Саратовской губернии за 1904 г., с которым он внимательно ознакомился, а некоторые предложения, в том числе и по аграрному вопросу, вызвали у него особый интерес.
Весьма любопытные штрихи автор добавляет к сложившемуся уже в литературе образу Столыпина, как правило, героизированному. Широко используя семейную переписку, он раскрывает личностные черты, несколько меняющие наши представления о Столыпине — его замкнутость, необщительность, прижимистость, если не сказать скупость, в личных расходах. Но главное — глубокой религиозностью, граничащей с мистицизмом, он очень напоминал самого Николая II. Особенно наглядно это проявлялось в ходе его многочисленных разъездов, вызванных крестьянскими волнениями. В письмах к супруге Столыпин раскрывается с несколько неожиданной стороны: под маской харизматического лидера скрывался глубокий фатализм, упование на Божий промысел. В годы революции, стараясь представить себя перед обществом и правящими верхами волевым и даже агрессивным, в письмах к жене он делился с ней своими страхами и отчаянием, считая, что ужасы нашей революции превосходят ужасы французской (с. 81).
Естественно, в книге большое внимание уделено формированию взглядов и правительственной программы Столыпина. Автор отмечает, что представления премьера по важнейшим вопросам внутренней жизни страны сложились уже ещё в период его губернаторства. Действительно, в публичных выступлениях в разного рода комиссиях и на совещаниях содержались предложения по решению проблем страхования рабочих, народного образования, введения земств в западных губерниях, рассматривались пути модернизации сельского хозяйства, способы решения обострявшегося аграрного вопроса, в том числе и ликвидация общины, как фактора, тормозящего развитие деревни и подрывающего социально-политическую стабильность в стране.
В частности, в книге приводится высказывание Столыпина 1909 г., когда в одном из интервью он заявил. Что его взгляды на решение аграрного вопроса сформировались ещё в Ковно в 1889 — 1902 гг. (с. 32) Это не совсем так. Его взгляды эволюционировали. Ещё в губернаторском отчёте за 1904 г. столыпинские предложения выглядят весьма умеренными, не выходящими за рамки известного манифеста 26 февраля 1903 г., предоставлявшего очень ограниченное право выхода из общины отдельным хозяевам. К тому же эти взгляды окончательно не сложились и до определённого времени не могли вылиться в завершённую программу. Ближайшие сотрудники премьера — С.Е.Крыжановский, В.И.Гурко, В.Н.Коковцов — свидетельствовали, что в правительство Столыпин пришёл без какой-либо программы. Более того, как писал в своих воспоминаниях Крыжановский, не было и надобности её разрабатывать, т.к. она была уже подготовлена кабинетом С.Ю.Витте, отправленного царём в отставку накануне созыва Государственной думы. Эти материалы и были взяты за основу при дальнейшем формировании программы3.
Другое дело, что Столыпин, ещё будучи саратовским губернатором, в записке от 11 января 1906 г. — фактически одновременно и независимо от Витте — высказал соображения, что бороться с революцией одними репрессиями невозможно, что главная причина массового крестьянского протеста не революционная пропаганда, а нищета деревни. Причём нищета, по его мнению, не является следствием малоземелья, а последнее не является главной причиной волнений. По его наблюдению, в волнениям часто принимают участие и даже иногда инициируют их зажиточные крестьяне. Главная проблема деревни — община, которая и является главной причиной нестабильности. Всё это он фактически повторил на совещании губернаторов, состоявшемся в конце января. Большинство губернаторов видели главную причину революционного движения в агитации интеллигенции и требовали усиления репрессий. Столыпин подал особое мнение, настаивая, наряду с этим, на проведении радикальных реформ, в том числе и ликвидации общины и создании класса мелких собственников как гарантии социально-политической стабильности в стране. Царь, как отмечает автор, ознакомился с мнением Столыпина 4 февраля 1906 г. (с. 85 — 86)
Как бы то ни было, впервые в сжатом виде программа действий кабинета была опубликована лишь 24 августа в виде правительственной декларации. И действительно, как и отмечается в книге, заслугой премьера было то, что он из общих теоретических постулатов и разрозненных практических наработок, над которыми ведомства трудились десятилетиями, сделал программу действий правительства и повёл активную борьбу за её реализацию. В общих чертах эта его деятельность достаточно известна, хотя её интерпретации и оценки последствий, во многом зависящие от партийно-политической и социальной ориентации исследователей, существенно разнятся.
Американский историк считает, что Столыпин как премьер решал пять основных задач, обусловленных временем и вытекавших из его взглядов. Прежде всего — это борьба с революцией, с революционерами и либералами, поколебавшими и изменившими самодержавную систему в 1905 г., а также восстановление в стране гражданского порядка. Оценивая деятельность премьера «по наведению порядка», автор не отрицает жёсткости и даже жестокости предпринимавшихся им мер, оговариваясь, правда, что они никогда не достигали уровня приказов предшественника Столыпина на посту министра внутренних дел П.Н.Дурново, который предлагал местным властям расстреливать восставших и сжигать их дома. Знаменитый же указ о военно-полевых судах исследователь склонен приписать самому императору. Который, кстати, неоднократно выражал благодарность Столыпину за его решительные действия по подавлению волнений.
Авторская позиция в оценке действий премьера по борьбе с революцией определяется, видимо, абсолютным неприятием её как явления сугубо отрицательного, разрушительного, бесперспективного. Такая позиция получила широкое распространение и в нашей литературе. Но возможен и другой подход к оценке этого явления. Будучи по природе своей стихийной, революция, как признавали многие современники, в том числе и Витте, и Столыпин, имела свои истоки в глубоком «нестроении» существовавшего порядка, тормозившего развитие страны и обусловившего крайнюю конфликтность российского общества. Правительство медлило с преобразованиями и ещё до 1905 г. стало на путь подавления всеми мерами, вплоть до применения вооружённой силы, любого проявления народного недовольства. Не спровоцированный расстрел мирного шествия рабочих 9 января 1905 г. вызвал ответный взрыв. Кстати, все страны прошли в своей истории через это испытание, а в американской конституции до сих пор остаётся статья, гласящая, что народ имеет право свергать правительство, не отвечающее его интересам. Заслуги Столыпина в наведении «порядка» далеко не однозначны, а в какой-то степени его успехи на этом поприще определили и его собственную судьбу.
Другой важной задачей премьера, считает Эшер, было поддержание и возможное укрепление монархического правления в условиях существования института народного представительства, наделённого монархом законодательными правами и в какой-то мере принимавшего участие в определении правительственной политики. Как отмечается в книге, Столыпин отрицательно отнёсся к манифесту 17 октября 1905 г., считая, что он внёс смуту в общество и разлад в действия властей (с. 84). Но как глава правительства он вынужден был принять реальность новых условий политической жизни. Более того, как отмечал английский посол в Петербурге А.Николсон, в беседе с ним Столыпин даже заявил, что его собственным идеалом является Британская конституция. Правда, при этом он добавил, что Россия, возможно, достигнет этой цели, но для этого потребуется определённое время, т.к. внезапные и стремительные перемены будут иметь разрушительные последствия. Если этому верить, пишет автор, то взгляды Столыпина в 1906 г. были даже более прогрессивны, чем это принято обычно считать. Но Эшер сомневался в достоверности этих слов, считая: или Столыпин хотел сделать приятное собеседнику, или был неточен перевод, или английский самого премьера был недостаточно хорош (с. 109). Скорее всего, считает он, Столыпин, зная приверженность Николая II к самодержавным устоям, был сторонником конституционализма, но не парламентского типа, т.е. конституционализм он понимал лишь как ограниченное законом монархическое правление. Действительно, выступая в Думе, он твёрдо заявлял, что народное представительство должно быть лишь помощником царю в управлении страной, что европейский парламентаризм — «чужеродный цветок», который нельзя привить на российской почве.
Автор отдаёт должное попыткам премьера наладить сотрудничество с законодательными палатами и даже сформировать правительство с участием либералов. Попытки отказались бесплодными. Трудно достоверно определить, был ли это манёвр с целью выиграть время, или сыграло роль нежелание или неумение главы правительства идти на компромиссы. Американский исследователь считает, что Столыпин не обладал этим важным для государственного деятеля качеством, о чём свидетельствуют не только его конфликты с Думой и Государственным советом, дважды приведшие к правительственному кризису и подорвавшие его репутацию, но и поведение премьера в кабинете, где он высокомерно игнорировал мнение коллег-оппонентов. Налицо было и несоответствие между декларируемыми взглядами о верховенстве закона и реальной политикой, между заявленными целями и методами действия, что порождало оппозицию и слева, со стороны левых радикалов и либералов, так и справа — со стороны право-консервативных кругов. Серьёзной слабостью главы правительства было отсутствие широкой и прочной социальной опоры, которую он так и не смог создать, а также сильной про-правительственной партии. В России, считает автор, только что вышедшей из революции и едва приступившей к формированию многопартийной системы, была необходимость в лидере, который бы правил «жёсткой рукой». Но не менее необходима была и гибкость лидера, который бы смог убедить как сторонников, та и оппонентов принять его политику. Столыпину, по мнению автора, не доставало этих качеств, столь необходимых государственному деятелю такого масштаба.
Ещё одним направлением его деятельности была попытка трансформации Российской империи в современное правовое государство — в том виде, как он это понимал, — для чего требовалось ликвидировать архаические сословные структуры и институты, разработать и реализовать обширные социальные программы, распространив гражданские права прежде всего на крестьянство и другие социальные слои. Пакет законопроектов, разработанных для решения этих задач, был достаточно обширен: модернизация всей системы местного управления, самоуправления и суда, реализация обещанных манифестом 17 октября прав и свобод граждан, реформирование системы образования, пересмотр рабочего законодательства.
Центральное место в этом комплексе мер занимала крестьянская реформа, направленная на постепенную ликвидацию общины и создание класса мелких собственников, что, фактически, должно было завершить аграрные преобразования 1861 г. Проблема эта, считает автор, весьма обширна и требует монографического исследования. В связи с этим он ограничивается изложением лишь основных положений своей концепции. Во-первых, аграрная реформа не является детищем Столыпина. Базисные положения её были высказаны рядом его предшественников в ходе работы многочисленных комиссий и совещаний. Столыпин попытался лишь превратить абстрактные идеи в реальность. Преобразования были прерваны войной и не приняли необратимого характера. Во-вторых, аграрные преобразования имели целью не только социально-экономические, но и политические последствия — крестьянство в результате должно было превратиться в полноправных граждан, лояльных режиму и всем правовым институтам. В-третьих, Столыпин выступал категорически против социал-демократической идеи национализации земли, считая, что идея всеобщего равенства ведёт к равенству в нищете. И, наконец, его программа не предусматривала сохранение помещиков как привилегированного класса. Владельцы имений должны были реорганизовать свои хозяйства и стать сельскохозяйственным классом, классом независимых фермеров.
Примыкающим к этому направлению был комплекс мер по решению национального вопроса. Обычно активизация национальной политики столыпинского кабинета рассматривается как определённый поворот вправо, как попытка премьера заручиться поддержкой право-консервативных сил. Автор рассматривает позицию Столыпина в этом вопросе как эволюционизировавшую от каких-то демократических начал к жёсткому национализму. В частности, вначале он попытался ослабить остроту еврейского вопроса, несколько смягчив ограничения правового положения евреев, что, однако, встретило жёсткое сопротивление императора. В дальнейшем под флагом борьбы за «единую и неделимую» Россию он предпринял решительные меры против сепаратистских тенденций финнов и поляков. И, наконец, ряд мер был направлен на укрепление западных границ империи за счёт усиления в этих регионах русского этнического элемента. И вообще, считает автор, при проведении этой политики сказалась позиция Николая II. В 1909 г. Столыпин был вынужден заявить о новом курсе правительственной политики в национальном вопросе, который значительно отличался от его первоначального замысла.
Наконец, весьма важной была позиция премьера в международных вопросах, в определении миролюбивого курса внешней политики России. Иностранные дела были прерогативой императора. Но он прислушивался к мнению главы кабинета министров, считавшего необходимым для успеха реформ как минимум 20 лет внешнего и внутреннего мира.
В целом, заключает автор, значительная часть начинаний Столыпина потерпела неудачу. В его актив можно отнести создание условий для проведения реформ; начало аграрной реформы, которая даже в незавершённом виде дала ценнейший материал для решения вопроса; начало введения всеобщего начального образования при активном участии органов самоуправления; разработку страхового законодательства для рабочих, введённого уже после его смерти; некоторая либерализация религиозных норм. Столыпин в представлении автора — драматическая и даже трагическая фигура. В его взглядах, ментальности и государственной деятельности причудливо переплетались самодержавно-монархические и либерально-консервативные убеждения, стремление модернизировать российские экономические и социально-политические институты, попытки придать им европейский, буржуазно-конституционный облик при сохранении властных прерогатив самодержавного монарха. Его деятельность и личные качества, считает автор, во многом близки к характеристикам канцлера О.Бисмарка, а образцом для Столыпина была политическая система Германии, хотя условия России начала XX в. заметно отличались от германских.
Особую драматичность эпохе его премьерства придавала крайняя поляризация и конфликтность российского общества, в результате чего Столыпин, как образно пишет автор, оказался «между молотом и наковальней». Главная уязвимость его позиции заключалась в отсутствии социальной опоры обновляющемуся режиму и фактическое отсутствие возможности опереться на сильную про-правительственную политическую партию. Его деятельность не нашла поддержки российского общества, а, в конечном счёте, и самого императора. Смерть Столыпина 5 сентября 1911 г. была несчастьем для России, но и продолжение его деятельности в прежнем качестве и направлении было уже невозможно. Фактически, он был отвергнут, отторгнут тем самым режимом, сохранению и частичному обновлению которого посвятил свою жизнь.
А.П.КОРЕЛИН
доктор исторических наук,
руководитель Центра истории России XIX в.
Института российской истории РАН
Примечания
|
 |
 |